«...Но Христос предается сегодня» Несколько слов о Пасхе крестной в поэзии андеграунда 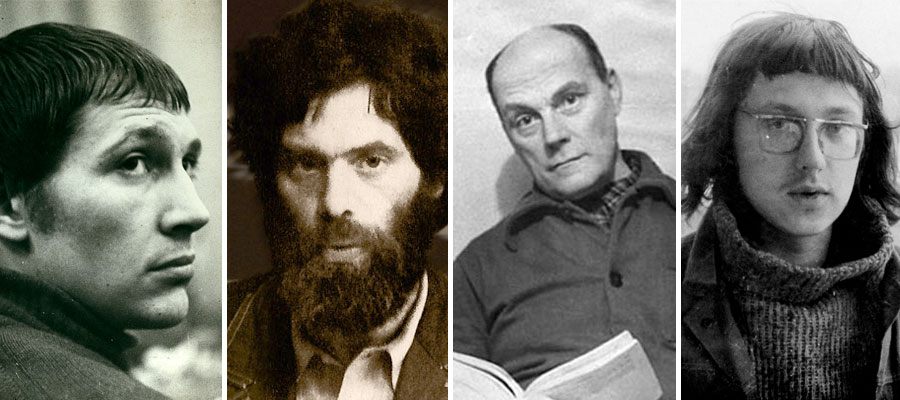 Олег Охапкин, Виктор Кривулин, Александр Солодовников, Василий Филиппов
Пасхальная тема в поэзии 1960–1980 годов звучит гораздо скромнее, чем рождественская. Тем не менее, мы её слышим. Даже в произведениях, где о главном празднике напрямую не говорится. Так, Бродский, размышляя о приходе в мир Спасителя, не проходит мимо тайны Креста: Мать говорит Христу:
– Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?
Пасха крестная представлена в культурном подполье, безусловно, объёмнее, чем Пасха воскресная. Возможно, потому что образ страдающего Христа увязывался поэтами ещё и с работой репрессивной машины тоталитарного государства. Например, Виктор Кривулин изобразил Сына Человеческого узником ГУЛАГа. Он среди заключённых, над Ним издеваются, Его приговорили к смерти. Но, даже будучи униженным, Христос даёт силы другим людям жить: По слухам, расстрелян. Казался распятым,
но видел сегодня: Его в коридоре
вели под конвоем. Меня оттеснили к стене,
успел различить над Его головою
движение круглое, ставшее Светом во мне.
Александр Солодовников, вступая в Страстную седмицу, вспоминает (в стихотворении «Вербная всенощная», 1961) родных и близких, умерших или погибших в советских застенках и трудовых лагерях. Каждый шарик вербы символизирует дорогое лицо: Тот шарик без зелени –
Друг мой расстрелянный,
К веткам прильнувший – Племяш утонувший,
Смятый и скрученный –
Брат мой замученный,
А тот глянцевитый –
Брат мой убитый.
Мы буквально чувствуем тяжесть и скорбь, которые сковали человека. Но вот происходит поворот к свету: Лица людей – лики икон,
Каждый свечою своей озарён.
Вместе с автором читатели оказываются в метафизической области, где всё дышит надеждой на спасение. Ленинградец Василий Филиппов посвятил Пасхе крестной «Великопостное чтение». В нём описана служба Двенадцати Евангелий. Действо происходит во сне «в Парголове / на холме». Тем не менее антураж вполне церковный: В храме людно.
Вздох старух изумрудный.
Шепчутся, крестятся
Перед иконами люди.
 Николай Ге. Христос в Гефсиманском саду
Узнаются и фрагменты чтения. Вот Пётр ударяет раба, вот Христа ведут в синедрион. Скупыми штрихами соединяет Филиппов евангельское повествование с советской историей, впрочем, не совсем прояснённой («он на меня посмотрел / когда уводили меня на расстрел»), с греческим мифом («Бог Подземный, Хароне») и с собственными проблемами («Здесь, в Парголове, меня преследует бес-алкоголик»). В целом получается тянущая на работу художника-примитивиста картина, где стих помнит об опытах футуризма. В 1970 году Олег Охапкин пишет «Моленье о чаше». Этот текст далёк от канонического рассказа. Да, Христос оказывается в саду, где Его предадут. Да, он обращается к Отцу за помощью. Но разговор какой-то странный, реальность всё время ускользает. Второе стихотворение Охапкина «Всеобъятная тьма и печаль» (1983) выполнено в более традиционной манере. Поэт погружается в пространство Гефсимании и при этом говорит об утраченной земной любви. Ничего кощунственного в таком соединении нет, поскольку автор реально страдает, а не играет с любовью и религией: Тайно скажем друг другу: прости!
И да сбудется воля Господня.
Тайна, светлая радость, расти!
Бог придёт нас от смерти спасти,
Но Христос предаётся сегодня.
Потерянная любовь здесь рифмуется с предательством Иуды. Также остаётся «на подступах» к событию Елена Игнатова. Её стихи «Страстная неделя» (1970) выстроены как диалог автора с подругой. Поэтесса сопрягает впечатления от весеннего города («деревья подтаивают изнутри, / под солнцем дымятся теперь пустыри») с церковными воспоминаниями: Но эти семь дней
мерещилась сердцу больному Голгофа
среди городских раскалённых камней,
и проволока в небе, и солнце над ней.
Пустыня. И горечь. И грохот.
Несколько произведений, в которых сделана попытка максимально приблизиться к евангельскому тексту, появились в конце 1980-х. Предприняли её, правда, поэты не первого ряда. Алексей Сосна, большой почитатель Пастернака, пишет текст «...а в Гефсиманском саду Он молился о чаше, а после...» Технически стихи написаны блестяще. Это прекрасный образец риторики, насыщенной евангельскими образами. Причём образы интересно поданы: «жалил чело поцелуй черный», «мстительно в спину петух провопил о позоре его» и т. п. Сосна, как и Бродский в «Сретенье», следует за Писанием, а затем делает резкий поворот. Мы видим ситуацию уже глазами живописца, не холодного эстета, а булгаковского Мастера. И этот Мастер как бы создает метафизическую реальность: Сильные пальцы творца.
И игла по металлу скользила.
И волосок золотой извивался под хрупкой иглой...
И проступало лицо, а когда наконец проступило,
был Он отозван Отцом, ибо время Его истекло.
Александр Закуренко в произведении «Гефсиманская ночь» тоже близок Пастернаку. Его текст, как и текст Сосны, можно считать своеобразным ремейком стихов из романа «Доктор Живаго». Стихи музыкальны, пластичны. Вместе со смысловой проблемой они решают и поэтическую задачу: непростая полиметрическая строфа требует всё новых и новых подходов. И автор их демонстрирует. Например, рифмует «стекло» и «чело» в таком контексте: И пространства и времени злое стекло
Преломить не способны сей путь до Чело –
века.
В Гефсиманию автор не забывает поместить и себя. Но этот ход не нарушает иконного пространства. Поэт оказывается в саду примерно на том же основании, на котором оказывались заказчики икон на древних досках. Как и они, он молит Творца о спасении: Боже, даруй же мне для судьбы рамена!
Я боюсь не допить до безбрежного дна
Твою помощь.
Сад с долиной всё тоньше, и озарена –
В людях, горах, равнинах – вся Божья страна,
Земли все, вся Земля. В ней – Голгофа видна
И – начало пути – на все веки и на
Гефсиманскую полночь.
Борис Колымагин Кифа № 4 (248), апрель 2019 года |

 Церковь и культура
Церковь и культура  «...Но Христос предается сегодня». Несколько слов о Пасхе крестной в поэзии андеграунда
«...Но Христос предается сегодня». Несколько слов о Пасхе крестной в поэзии андеграунда 
