Европеец в Православии Об Оливье Клемане уже сказали и еще скажут немало проникновенных слов те, кто имел радость знать его лично. Но присутствие мыслителя не ограничено физическим присутствием. Клеман присутствовал в России, среди российских христиан через многочисленные книги, изданные по-русски. Попытаемся сказать несколько слов в качестве их благодарного читателя. 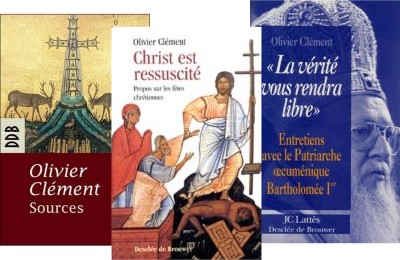
Думается, главный дар Клемана состоял в том, что он вмещал в себя очень многое и среди православных богословов занимал крайне важную позицию, которую и по характеру, и по степени значимости, пожалуй, можно сравнить с перекрестком. В его личности пересекались Восток и Запад христианства. Это был православный европеец - что важно, вполне православный и вполне европеец. Клеман редким образом сочетал в своем отношении к реальности глубокую поэтику со столь же глубокой, ответственной рациональностью, а любовь к традиции - с не меньшей любовью к непредвзятости и честности, умением любить не только свое. Обратившись ко Христу в зрелом возрасте, Клеман сделал выбор в пользу Православия - церкви, на знамени которой написано слово «Предание», ощущающей себя именно как церковь Предания. Он сам стал певцом Предания, которое понимал не как букву, предназначенную для повторения, но как выражение «духа юности», живую память о «великой Пасхе» - Христе. В сознании же многих и многих православных (естественно, не только их одних, но сейчас речь именно о православных) традиционализм слишком часто оборачивается культом неизменности, неподвижности, якобы гарантирующей причастность к вечности. Едва ли не любое изменение при этом воспринимается как крушение основ. Неотъемлемо от этого жестко традиционалистского сознания и конфессиональное самодовольство, к тому же выдаваемое за норму церковности: истина в моей церкви, все остальное - в той или иной мере заблуждение. Вообще, есть очень много православных, уверенных в том, что они стали православными, потому что именно православие истинно. Звучит же в этом совсем противоположный внутренний мотив: в православии истина, потому что они сами в православии. Такие люди очень любят по любому вопросу ссылаться на «святых отец» и «святые каноны», но эти апелляции к авторитетам чаще всего расшифровываются в первую очередь как сообщение другим о собственной непогрешимости: истина у меня, я не могу ошибаться, я ведь единомыслен со святыми отцами! Хорошо проник в суть этого сознания сквозь покровы благочестивых заверений в верности Преданию Бердяев, оставив следующее наблюдение: «"Православие - это я", - говорит этот ревнитель ортодоксии и обличитель ересей. Если бы я во что бы то ни стало стоял за наименование, то я бы ему ответил: "Твой критерий формально верный, но ошибка твоя в утверждении, что православие это ты, православие это не ты, а я". Я давно заметил, что представители ортодоксии и авторитета, в сущности, никакого авторитета для себя не признают; они себя считают авторитетом и обличают в ересях митрополитов и епископов; для себя они признают большую свободу и отрицают ее лишь для других». Нетрудно заметить, как часто человек, привыкший говорить «от авторитета», прикрывает им знание материала и богословские воззрения уровнем не выше плинтуса: скажем, точно «знает» о погибели некрещеных - и говорит об этом так, словно все святые отцы его персонально в этом заверили. Одновременно такой «всезнающий» богослов любит одергивать того, кто подчеркивает, что говорит лишь от себя: как-де он смеет, да это же гордыня! Хотя на деле все опять же с точностью до наоборот: говорящий от себя, если только он вменяем, подразумевает, в отличие от большинства говорящих «от авторитета», возможность собственной ошибки. Однако привычка использовать Писание и отцов как средство для затыкания рта оппоненту накрепко въелась в православный дискурс и вместе с прочим обуславливает современную богословскую немощь православных школ. 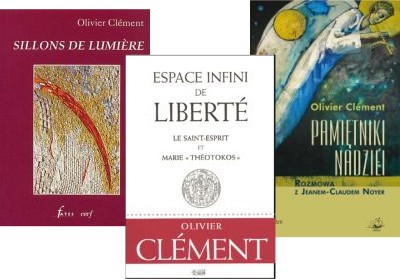
Примечательно, что, мягко говоря, не так уж многие из уверенных в истинности своего православного выбора могут этим выбором похвастаться - если, конечно, речь идет о выборе вполне самостоятельном и осознанном. В христианские церкви люди сравнительно редко приходят по такому выбору - и по сей день он чаще всего обусловлен не сопоставлением, а попросту происхождением: если человек родился, пусть даже не в христианской семье, французом, то, уверовав, он, скорее всего, будет католиком; если родился финном, то лютеранином, если русским - то православным. Впрочем, «махровый» традиционализм и конфессионализм все же бывает и следствием экзистенциального выбора: так, православие иногда становится прибежищем для «конвертов» с Запада, нашедших в экзотической для них конфессии твердыню покрепче для защиты от большого и сложного мира вокруг. Наиболее известный и влиятельный пример здесь - человек из американской протестантской семьи Юджин Роуз, ставший столь любимым отечественными «ревнителями» известным иеромонахом Серафимом (Роузом). Случай Клемана совершенно иной; совсем иной и тип православного, им являемый. Клеман всем своим творчеством подчеркивал осознанный характер своего православного выбора, но, где только можно, старался избегать заявлений о том, что стал причастен к некой исключительной по сравнению с католиками и протестантами полноте истины. Его обращение к древнему восточному исповеданию не было связано ни с каким прозелитизмом, конфессиональным переходом: Клеман родился и вырос во вполне секулярной семье, каких очень много во Франции. Важный штрих в биографии его молодости: участвовал в антигитлеровском сопротивлении. В последующие годы, движимый поисками подлинности, интересовался религией, до поры до времени - в первую очередь Востоком. Но свой Восток нашел немного западнее: им оказался Восток христианский. И своему выбору Клеман умел быть верным без навязывания его другим, и тут будучи истинным европейцем, являя лучшую сторону толерантности как составляющей европейского менталитета. Потому, кстати, и о святых отцах ему удавалось говорить совсем в иной тональности, чем «ревнителям отеческой веры»: не навязчиво, но просто, поэтично и глубоко одновременно. Думается, любой, кто станет читать его знаменитую хрестоматию богословия древней церкви «Истоки», сможет это ощутить в полной мере. 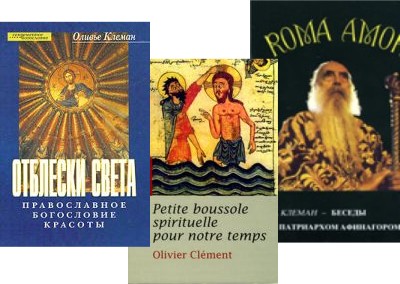
Клеман не мыслил церковь в категориях конфессиональной исключительности, увы, ставшей еще одним «брендом православности». Потому и озабоченность христианским разделением выражалась у него в умении видеть изменения позиции другого и идти на сближение сразу же, как только для этого появились предпосылки. Вступая в диалог, он был нацелен именно на диалог - на прояснение позиций, а не на утверждение во что бы то ни стало собственной позиции. Обратившись во многом под влиянием Вл. Лосского, Клеман не унаследовал «неовизантинистского» триумфализма, свойственного школе, к которой тот принадлежал. Свидетельство о православии не звучало в его устах тем навязчивым заклинанием, каким звучит столь часто. Не случайно ему оказался так близок патриарх Афинагор, совместно с папой Иоанном XXIII предпринявший титанические усилия по преодолению многовековой вражды между православием и католичеством. Книга бесед Клемана с патриархом Афинагором, исполненных мудрости и глубины, стала одной из самых проникновенных христианских книг ХХ века. Сочувствовал Клеман и деятельности экуменической общины Тэзе, где любил бывать и в которой видел возможность для православных не только свидетельствовать Западу о своем опыте, но и самим встретиться с реальным Западом, который тоже «молится и ищет истоки», имеет свою глубокую духовную жизнь, «таинственное общение святых, которые жили до нас». Именно Клеман в начале 70-х гг. ХХ века поддержал с православной стороны усилия католиков по преодолению богословских разногласий в связи с проблемой Filioque, в течение веков бывшей камнем преткновения между Православной и Католической церквами. Рассмотрев католическую версию согласования богословских позиций сторон, Клеман увидел в предложенных формулировках доказательства совместимости греческой и латинской традиций как отражающих разные стороны общехристианской пневматологической доктрины. Кстати, раз уж речь заходила о святых отцах, вспомним, что такой непреклонный поборник чистоты веры и мученик за нее, как св. Максим Исповедник, не видя особой необходимости в западной добавке к Символу веры, одновременно не находил в ней и предмета для разделения. Усилия Клемана и других диалогично настроенных богословов с обеих сторон могли бы сделать проблему Filioque исчерпанной. Однако, к сожалению, такой подход не нашел достаточного числа продолжателей в православном мире, и огромная часть православного богословского истеблишмента предпочитает ориентироваться на груз старой полемической литературы. 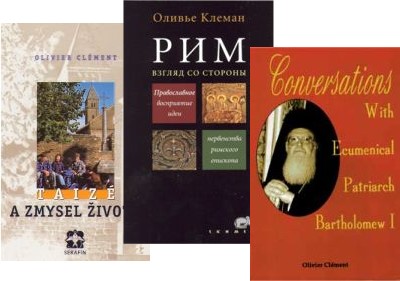
Открытый и честный характер христианской позиции Клемана проявлялся и в его взгляде на взаимоотношения христианства и остального мира. В секуляризации со всеми ее тревожащими проблемами и последствиями он видел не «происки дьявола», а детище библейской иудеохристианской традиции, в известном смысле - исполнение слов Иисуса о разделенности Божьего и кесарева, соединение библейской борьбы с идолопоклонством и античного интеллектуализма (он называл секуляризацию «дочерью Афин и Иерусалима»). Он предупреждал христиан как против бегства от реалий современности в мироотрицающее сектантство, так и против попыток восстановления христианского присутствия в мире по старому, отжившему типу - по типу господства, авторитарной унификации под эгидой единой навязанной идеологии. Выход он видел в ином способе присутствия христианства в обществе и взаимосвязи с ним, названном им «пророческим партнерством» и понимаемом как утверждение в коммерциализировавшемся социуме «той реальности, которая не продается и не покупается, взывая к созерцанию, а не к употреблению» и утверждая «смысл и праздник существования». Возможность такого свидетельствующего присутствия, в свою очередь, была связана для него с решением обширного круга богословских задач, ухода от «богословия повторения» и самоизоляции, от богословия, требующего возмездия Бога, в котором жертва Сына нужна для усмирения гнева Отца, от иных отживших схем. В обретении богословием творческого характера, как надеялся Клеман, секуляризация могла бы обернуться шансом для христианства предстать миру как откровение богочеловечества, способное разрешить противоречия между разными религиозными традициями, помочь им взглянуть друг на друга более зрячими, незашоренными глазами. А может быть, и самому христианству отделаться от оболочки «религиозного» (в привычном нам смысле слова, как некой отделенной сферы, аналогичной сферам науки, политики или культуры), чтобы открыть себе и миру, что все в нем может быть знаком Божьего присутствия, и в этом смысле ничего «светского» не существует. В этом чаянии выхода христианства из религиозной «скорлупы» в мир ради сопричастности ему и его преображения мысль Клемана перекликается как с практическим деланием м. Марии (Скобцовой), так и с интуициями Бонхёффера и иных западных теологов ХХ в. Может возникнуть вопрос, почему же, ощущая такое стремление к новизне и честности, Клеман сделал при своем обращении к христианству выбор в пользу православия, а не протестантизма? Ведь именно последний (речь, конечно, не о фундаменталистских протестантских группах) предпринял мужественную попытку встретить кризис христианства (той самой его авторитарной средневековой формы), поставить на службу Вести о Христе сами параметры бросившей вызов историческому христианству эпохи Нового времени: падение господства авторитета, высвобождение критического разума, «расколдование» мира (означающее, что в глазах человека он больше не населен таинственными и пугающими сущностями, а прозрачен для разумного исследования) и др. Вспомним хотя бы того же Бонхёффера с его мыслями о христианстве в «совершеннолетнем» мире или Тиллиха с его грандиозным стремлением выработать новый, экзистенциальный язык богословия - и это только два примера из многих. В православном мире равное мужество мысли смог проявить, пожалуй, разве что Бердяев.  Одна из причин, по всей вероятности, заключается в том, что через протестантизм с его преимущественным антропологизмом и не слишком большим вниманием к миру за пределами человеческой личности Клеман (в чем признавался сам) не видел возможности постичь и отобразить всю красоту мира. А именно эта красота, ощущение осмысленности всего творения были для него главным доказательством бытия Бога. И выражение этого он видел прежде всего в Православии. Литургическое служение, церковное искусство, аскетическое подражание Христу - все это он рассматривал как «отблески света», осуществление жажды преображения творения в согласии с изначально данной ему божественной красотой. Именно Православие, считал он, выработало соответствующую этому «философию материи», позволяющую наилучшим образом видеть «смысл земли» - именно так называется одна из его книг, переведенная на русский язык. В заявлении Ассамблеи православных епископов Франции в связи с кончиной Оливье Клемана есть слова о том, что почившему был свойствен «филокалический» («добротолюбивый») взгляд на мир: он был поистине «влюблен в Божественную красоту, которую он старался найти и разгадать в мире и в каждой человеческой личности». Можно сказать, что он был мыслителем-космистом, продолжив традицию русской религиозной философии. И этот космизм он органично сочетал с европейской мобильностью, гибкостью и честностью мысли. Пожалуй, он и являл собой тот тип православного, который имеет перспективы в современности. Одна из причин, по всей вероятности, заключается в том, что через протестантизм с его преимущественным антропологизмом и не слишком большим вниманием к миру за пределами человеческой личности Клеман (в чем признавался сам) не видел возможности постичь и отобразить всю красоту мира. А именно эта красота, ощущение осмысленности всего творения были для него главным доказательством бытия Бога. И выражение этого он видел прежде всего в Православии. Литургическое служение, церковное искусство, аскетическое подражание Христу - все это он рассматривал как «отблески света», осуществление жажды преображения творения в согласии с изначально данной ему божественной красотой. Именно Православие, считал он, выработало соответствующую этому «философию материи», позволяющую наилучшим образом видеть «смысл земли» - именно так называется одна из его книг, переведенная на русский язык. В заявлении Ассамблеи православных епископов Франции в связи с кончиной Оливье Клемана есть слова о том, что почившему был свойствен «филокалический» («добротолюбивый») взгляд на мир: он был поистине «влюблен в Божественную красоту, которую он старался найти и разгадать в мире и в каждой человеческой личности». Можно сказать, что он был мыслителем-космистом, продолжив традицию русской религиозной философии. И этот космизм он органично сочетал с европейской мобильностью, гибкостью и честностью мысли. Пожалуй, он и являл собой тот тип православного, который имеет перспективы в современности. Но так часто в психологии христиан жажда гарантий и иллюзия гарантий оказываются привлекательнее, чем открытость с ее перспективами, но и рисками. Вот и пользуется большим успехом Роуз, чем Клеман. К самому же французскому богослову отношение в русском православии неоднозначное. Конечно, немало людей ценит его творческую натуру, свободу и поэзию его мысли. Но многие и недолюбливают за «прокатолические симпатии». Те же люди, впрочем, при случае бывают не прочь показательно погордиться православным французом, используя его выбор в целях доказательства конфессиональной правоты. Что, как мы видели, находится в полном противоречии со всем его наследием, с самой его натурой. Впрочем, чаще всего о нем, как и о матери Марии, о. Сергии Желудкове, а теперь уже и об о. Александре Мене, предпочитают просто молчать. Сам же Клеман не мог молчать, не мог не выражать своей самой живой заинтересованности состоянием дел в российской церкви, «церкви-матери» русской православной диаспоры во Франции, сыгравшей столь большую роль в его жизни. Его посещение России в 1998 г. пришлось на самый разгар кампании «самозачистки» Русской православной церкви от всего вызывающего подозрение на «неообновленчество» - кампании, окончательно подорвавшей творческие силы церкви. Под тягостным впечатлением от увиденного он написал для парижской «Монд» статью «Трудности и недомогания русской церкви», где поставил нелицеприятный диагноз: «в этой Церкви нет понятия диалога, нет уважения к другому, нет возможности обжаловать несправедливое решение». Впрочем, Клеман не видел положение безнадежным, выражая надежду на то, что и в церковном руководстве РПЦ есть люди, «которые начинают понимать, что консерватизм, даже парадоксальный и претендующий на культурность, может стать путем к самоубийству». Этому умению надеяться у него, наверное, также стоит учиться. Дмитрий МАТВЕЕВ
Свидетели надежды в кризисном мире Часто говорят, что надежда - это побег в мечту, совершаемый, когда жизнь становится слишком тяжелой. Однако если всмотреться в надежду, то в ней проступают знаки инобытия: весь тот свет, то добро, та красота, какие оплодотворяют историю, какие дают ей дыхание вечности. Печать вечности лежит на тех, кто отдает жизнь свою за други своя и кто прощает врагов. Вечность проступает в тех, кто снова и снова умирает, чтобы из смерти восстала жизнь и, говоря словами «философа с молотком»*, дает возможность хаосу время от времени рождать звезду. ...Начиная с библейского откровения и возникновения христианства, мощное энергетическое ядро приводит в движение историю и не дает ей остановиться. Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго» пишет: «Что-то сдвинулось в мире, кончилась власть количества, необходимости (это утверждение в действительности говорит о какой-то напряженности, о битве): личность, проповедь свободы пришли ей на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной». Отныне Царство таится в истории как сокрытый жар в недрах вулкана и порождает непрестанное обновление - если не потрясения, то по крайней мере, кризис. Устремленное к концу, за которым не будет конца, к преображению твари, христианство не может прочно утверждаться в завершенных формах, за которые его упрекал Ницше, упрекали и упрекают все неоязычники. И каждый кризис, каждый великий момент потрясения приводит ко все более яркому осознанию бытия, к новой вспышке в огнях духа еще одной из неисчислимых граней того алмаза, который есть Тело Христово. ...Бог воплощается, Бог пребывает с нами, разделяя радость Каны, как и ужас страданий Гефсимании. Он торжествует над смертью и адом, чтобы открыть нам пути Воскресения, которые тоже часто остаются незамеченными и неожиданными. Он дает смерти, как и жизни, вкус Пасхи, Он бессмертен, и бессмертие отныне может распространиться на весь мир. Он есть неодолимое восстание жизни против смерти. Итак, вера, полная открытость, надежда становятся благословением жизни, несмотря ни на что и, безусловно, именно этого благословения и ждет наше общество и имеет в нем настоятельнейшую нужду. Два года назад** один телережиссер, тогда еще советский, с некоторым ироничным любопытством снимал группу христиан. Среди них он заметил молодую женщину. Ее молодость и красота побудили его дать крупный план и спросить у нее: «Итак, Вы счастливы, оттого что Вы христианка?» Она ответила: «Я страдаю, как и весь мир, но христианином становятся не для того, чтобы быть счастливым, христианином становятся, чтобы быть живым». ... последнее, о чем я хотел бы напомнить, - не призваны ли мы погружать надежду в глубину сердца для того, чтобы в нашем служении явить ее вовне? Из терпения, но терпения творческого, рождается надежда, которая с этого момента его поддерживает и укрепляет. Мы живем ожиданием пришествия Бога, надеждой на возвращение каждой вещи к ее жизни в Боге, ставшем человеком, ожиданием Царства, которое «внутрь нас есть» и которое притягивает нас подобно магниту. Потому можно назвать надежду видением грядущего как уже наступившего - так, как говорил о ней св. Павел. Вера тоже касается вещей, как говорит апостол, которым еще только предстоит наступить, но она еще не обеспечивает верующему участие в реальностях, тогда как надежда таинственно убеждает нас в этом участии. Надежда есть как бы углубление веры, созревание веры, откровение проницаемости времен, концентрация веры до степени очевидности того, что мы видим гадательно. Грядущий, Христос Прославленный, Царство - все это уже таинственно присутствует в Церкви как тайна, как парусия, парусия, которая означает одновременно ожидание и присутствие в Духе Святом Того, Кто грядет. Основное измерение в надежде - присутствие в ожидании, «уже» и «еще не». Царство, которого мы чаем, уже таинственно присутствует. Оно действует, оно ведет подкоп, если можно так выразиться, под временем, оно его минирует изнутри. Надежда пробивает каким-то образом путь сквозь время к тому событию, которое уже произошло, к грядущему, которое будет полным откровением этого события, сквозь времена, или точнее, сквозь саму толщу времени, как слышно разносящиеся в дымке звуки пасхальных колоколов. Надежда, как и тревога, толкает человека вперед, к будущему, но совершенно иначе. В тревоге кроется будущее, несущее страх, от которого хочется отгородиться, но о котором человек знает, что отгородиться от него никак невозможно. Надежда открывает будущее, в котором раскрывается таинственное присутствие, делающее нас своими участниками. Она вызывает в нас доверие и приносит утешение. В душе не могут сосуществовать тревога и надежда, но через веру, смирение, молитву, в служении тревога превращается в надежду. Тревога и надежда соединены в одной теме, теме будущего. Для тревоги будущее только имманентно, оно - в тисках необходимости. В истории Ирода и Пилата, в истории избиения младенцев оно подобно бездне и, в конечном счете, оно - смерть и небытие. Для надежды мое будущее - Христос, и Он уже пришел. Он грядет, чтобы явить Себя в славе и силе. Он дает возможность мне лично и всем нам вместе - и в этом все та же тайна Церкви - превратить любую ситуацию смерти в ситуацию воскресения. И это история блаженных, это история общения святых, в добродетелях которых, по словам одного раннего богослова, проступает понемногу лик грядущего Христа. Насколько надежда питается доверием, настолько тревога питается неуверенностью и затравленным бегством перед лицом пустоты. Безусловно, беспокойство есть и в надежде, но оно проницаемо, подвижно, способно слышать, не вызывает удушья в противоположность неуверенности тревоги. Оно есть просто необходимое внимание к тому, чтобы не забыть и не потерять руку Христа, Который во мраке вырывает меня, вырывает нас из смерти и ада. Надежда приходит к нам, когда наше отчаяние не замыкается на самого себя, но распахивается навстречу Тому, Кто сораспинается с нами, чтобы открыть нам в Себе, в Духе Святом, пути воскресения. Когда сердце раскрывается, когда сердце каменное становится сердцем плотяным, тревога, отчаяние, безнадежность исчезают понемногу по мере того, как размягчается ожесточенное сердце, корка, которая прятала наше истинное сердце. Отныне нет более идеологий, умозрений, и прежде всего умозрений богословских, которые мы принимали всерьез. Отныне есть люди. За игрой масок и страстей мы обнаруживаем, что они есть. Из выступления Оливье Клемана на ежегодной генеральной ассамблее движения «Христианское действие за отмену пыток» (АКАТ) 14-15 марта 1992 г. Полный текст опубликован на сайте Свято-Филаретовского института http://sfi.ru Перевод с французского Алексея Костромина КИФА №2(92) февраль 2009 года |

 Богословие – всеобщее призвание
Богословие – всеобщее призвание  Европеец в Православии. Об Оливье Клемане уже сказали и еще скажут немало проникновенных слов,,,
Европеец в Православии. Об Оливье Клемане уже сказали и еще скажут немало проникновенных слов,,, 
