О русской богословской традиции
Интервью с прот. Михаилом Меерсоном-Аксеновым, настоятелем храма Христа Спасителя (Нью-Йорк)
«Кифа»: О. Михаил, как Вы думаете, можно ли говорить об оригинальном русском богословии? Существует ли вообще таковое или мы обречены иметь дело только с набором каких-то стилизаций и повторов великих богословов Востока и Запада? И если да, то зачем оно нужно?
О. Михаил: Недавно на одном из домашних семинаров по русской истории для аспирантов Джорджтаунского университета Борис Гаспаров сделал очень интересный доклад о «Поучении» Владимира Мономаха и роли в нем церковнославянского языка. Он показал, что уже в X веке автор, если хотел перейти на высокий духовный стиль, использовал церковнославянский язык. Но это специфический язык, искусственный язык богослужения. На нем не разовьешь православного дискурса. Однако в то время другого языка, пригодного для богословских размышлений, не было.
 В конце XVII - начале XVIII века происходит объединение Украины с Россией. Петровские реформы открывают дорогу западному влиянию не только в обществе, но и в церкви, где ведущее, руководящее положение в это время занимают украинцы. Петр Могила переводит на русский язык католические учебники. Это прежде всего Фома Аквинский (Аквинат), который полностью основан на Аристотеле. Западная схоластика - богословие Западной церкви - становится богословием православных школ. Это аристотелевско-томистское богословие, в буквальном смысле слова приноровленное к православным нуждам. Богословие, естественно, школьное, т.е. то, которое ты изучаешь, чтобы знать некоторую структуру. Но оно уже устарело и не отвечает экзистенциальным потребностям ни человека, который его преподает, ни человека, который его слушает, ни, тем более, паствы. Меняется время. Да, Аристотель - великий философ для своего времени. Но мы вырвались из этого начала. А богословие всегда стоит на какой-то философской основе.
В конце XVII - начале XVIII века происходит объединение Украины с Россией. Петровские реформы открывают дорогу западному влиянию не только в обществе, но и в церкви, где ведущее, руководящее положение в это время занимают украинцы. Петр Могила переводит на русский язык католические учебники. Это прежде всего Фома Аквинский (Аквинат), который полностью основан на Аристотеле. Западная схоластика - богословие Западной церкви - становится богословием православных школ. Это аристотелевско-томистское богословие, в буквальном смысле слова приноровленное к православным нуждам. Богословие, естественно, школьное, т.е. то, которое ты изучаешь, чтобы знать некоторую структуру. Но оно уже устарело и не отвечает экзистенциальным потребностям ни человека, который его преподает, ни человека, который его слушает, ни, тем более, паствы. Меняется время. Да, Аристотель - великий философ для своего времени. Но мы вырвались из этого начала. А богословие всегда стоит на какой-то философской основе.
Для Аристотеля Бог - Первопричина, которая толкает все остальное и сама стоит в том же ряду причинно-следственных связей, что и все остальные явления. В этом смысле, как жаловался мне один францисканец, в католической церкви даже Бог не свободен. А в православной церкви Бог свободен, т.е. православию удается вырваться из схоластического богословия. Поэтому богословское возрождение в России шло по пути обхода «школьного» богословия, при этом оно шло на фоне той философии, которая развивалась в Европе - немецкой философии. Это одновременно отталкивание от немецкой философии, ее преодоление и дискуссия с ней.
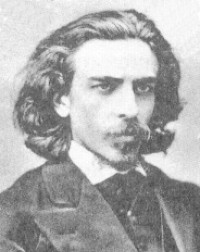 XIX век. Владимир Соловьев. Он мальчишкой становится атеистом. Ему нужно вернуться к вере. Он - думающий человек, он читает философов своего времени, так же как читают их его соотечественники и современники - Чернышевский, Белинский, Герцен, Огарев. Они идут в одну сторону, потому что движение мысли уходит от Церкви, оно уходит от Бога. Надо остановить это движение. Надо создать свой синтез, но синтез уже из нового материала. Соловьев - наследник Гегеля, Канта, Шопенгауэра, Дарвина, Спенсера, Ницше. Из этого материала и одновременно патристических источников он и создает, так сказать, «неопатристический синтез». (Я использую слова Флоровского, но сам этот синтез начался до Флоровского. Он начался тогда, когда нужно было его включить в другой философский дискурс).
XIX век. Владимир Соловьев. Он мальчишкой становится атеистом. Ему нужно вернуться к вере. Он - думающий человек, он читает философов своего времени, так же как читают их его соотечественники и современники - Чернышевский, Белинский, Герцен, Огарев. Они идут в одну сторону, потому что движение мысли уходит от Церкви, оно уходит от Бога. Надо остановить это движение. Надо создать свой синтез, но синтез уже из нового материала. Соловьев - наследник Гегеля, Канта, Шопенгауэра, Дарвина, Спенсера, Ницше. Из этого материала и одновременно патристических источников он и создает, так сказать, «неопатристический синтез». (Я использую слова Флоровского, но сам этот синтез начался до Флоровского. Он начался тогда, когда нужно было его включить в другой философский дискурс).
Сейчас мы находимся уже в терпимом мире, нас не уничтожают, как в 20-е годы: «Попы не нужны! Зачем они?!» Но реально мы представляем некоторую древность. Церковь никому особо не мешает. У нее нет сил, нет воли мешать тому движению атеистической секуляризации, которое обрушилось на людей как лавина капиталистического забега непонятно за чем, за строительством непонятно чего и ради чего. Нас никто не слышит с нашей вечной Вестью.
Соловьев это почувствовал гораздо раньше и чувствовал очень сильно. У него были большие схемы. Например - давайте объединим Российского императора с папой Римским. Какая сила?! А?! Это была утопия. И об этом написал его ученик Евгений Трубецкой в труде «К вопросу о мировоззрении В.С. Соловьева». Первой развалилась Российская империя, т.е. одна из сторон предполагаемого альянса (которая к нему совсем не стремилась). Да и другая оказалась достаточно потертой жизнью. Утопизм развалился.
Но остались последователи Соловьева. Они говорят, что мужественный человек Владимир Соловьев заговорил современным языком. Т.е. он сказал, что мы, как Церковь, не можем и не должнывыживать в пещере. В Церкви есть место для отшельников. Но Церковь, как таковая - не отшельница. Богословие нужно для сознания Церкви, для того, чтобы выйти к социальному, общественному пути спасения, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин.3:16). Т.е. к миру надо идти, это очевидная вещь. Богословие - это выход к миру. Каким образом? Прежде всего, надо дать отчет о своем уповании. Это всегда очень трудно сделать. Потому что мир бежит быстрее нас. Неважно куда. Его сыны, сыны века сего, гораздо активнее, предприимчивее сынов Света, как сказал Господь.
«Кифа»: Все это прекрасно, но для нас-то сейчас чем ценно богословие серебряного века?
О. Михаил: Мы живем в мире информационного взрыва, где человек получает информацию обо всем и исходя из нее складывает свои собственные, личные мнения. Точно так же он получает информацию и о религии. Откуда он ее получает? Из «медиа». Он получает информацию из того источника, который громче орет в этот момент - например, из какого-нибудь «Кода Да Винчи» (успех этого фильма говорит о том, что никто ничего не знает про Евангелия).
Трагедия в том, что я должен защищать свою веру, я должен объяснять, почему в церкви четыре Евангелия и почему только этим четырем можно верить, почему именно эти четыре Евангелия избрала Церковь, почему Она их сохранила и до сих пор несет. Почему ни из каких других источников вы ничего не узнаете, почему вы должны узнать это в Церкви, от Нее? Сегодня церкви все это нужно защищать - нужно защищать то, что она получила, эту весть, что Господь Иисус Христос воскрес и что Он «Един сый Святыя Троицы».
Я привез в Москву для издания свою книгу - «Новое богословие Троицы в русской религиозной мысли». Академическое богословие ничего нового не сказало по этому вопросу. Оно каким было, таким и остается: мы читаем все те же тексты IV века. Но одно дело сказать: так верит в Троицу Церковь. Другое дело сказать: так верили в Троицу в IV веке. Для человека, который живет сегодня, вполне допустима мысль: «Тогда верили, а сегодня, может, ошиблись. Между IV веком и нами большая разница. Тогда на ослах ездили».
 И собственно говоря, то движение, которое я изучал с самого начала - оо. Сергий Булгаков, Павел Флоренский, кто они такие? Они молодые люди. Флоренский в своих дневниках (это замечательное свидетельство) описывает свой дом, в котором он вырос. Замечательный, гуманистический дом, где ни одного грубого слова не было сказано вообще ни о ком и ни о чем. Но в этом доме с детства было множество табу. Что же это за табу? Он очень остроумно перечисляет - священники, православие, вера и масса других. Т.е. религия вообще не обсуждалась, как бы не существовала. Хотя он воспитывался в православной вере. Он вырос ученым человеком, который уже на I курсе университета много чего знал. Он ученик Бугаева - отца Андрея Белого, он с него брал пример. Пытался даже писать первые поэмы.
И собственно говоря, то движение, которое я изучал с самого начала - оо. Сергий Булгаков, Павел Флоренский, кто они такие? Они молодые люди. Флоренский в своих дневниках (это замечательное свидетельство) описывает свой дом, в котором он вырос. Замечательный, гуманистический дом, где ни одного грубого слова не было сказано вообще ни о ком и ни о чем. Но в этом доме с детства было множество табу. Что же это за табу? Он очень остроумно перечисляет - священники, православие, вера и масса других. Т.е. религия вообще не обсуждалась, как бы не существовала. Хотя он воспитывался в православной вере. Он вырос ученым человеком, который уже на I курсе университета много чего знал. Он ученик Бугаева - отца Андрея Белого, он с него брал пример. Пытался даже писать первые поэмы.
Этот человек через Мережковского узнает новый путь. И вдруг оказывается, что есть какой-то смысл в религии. И он открывает для себя заново религию, пишет книгу «Столп и утверждение истины» прежде всего для того, чтобы убедить самого себя. С этого он начинает. Двенадцать писем - это двенадцать писем к гипотетическому собеседнику. Ему хочется с кем-то поделиться. Он убеждает самого себя. Первый богословский шедевр XX века - это убеждение современного ученого, который вырос в гуманистической культуре нашего времени, в том, что вера отцов истинна. Православие - истинная вера, вот в чем дело. В этом смысле ее нельзя записать, и он ее как бы заново пишет для себя.
 Друг Флоренского, Сергий Булгаков (есть замечательная картина Нестерова в Третьяковской галерее - «Два философа»: Флоренский и Булгаков вместе) - марксист, семинарист, который, как многие семинаристы, отпал. Бывший семинарист, как Сталин, как Чернышевский. Поехал в Германию, учился у Каутского, привез сюда свой марксизм. Потом начинает отдаляться. Это - работа мысли, постоянная работа мысли, постоянное преодоление самого себя: от марксизма к идеализму, от идеализма к христианству, от христианства к православию. Человек, который постоянно ищет, не удовлетворяясь ничем. Человек, который действительно никогда не останавливался ни перед какой трудностью, человек, которого никогда не убеждало чужое слово. Он должен был заново все открыть. И он до конца жизни - такой. Когда он начал поднимать богословие, он говорил: «Опять мы утыкаемся в эту аристотелевскую причинно-следственную связь». Так вот, мы не живем в мире Аристотеля, в причинно-следственности, когда говорим о Троице. И здесь - остановка, здесь святые отцы «проворачиваются», потому что здесь нет персонализма, нет, так сказать, личностности, потому что эта неоплатоническая триада относится к вещам. Никакой разницы между компьютером, или коляской с кучером, или Троицей неоплатоническая триада не может определить. Эту триаду снова возрождает Соловьев и через век после него - Карл Раннер. И опять там эта безличность, имперсонализм, который не дает вернуть Троицу снова в понимание человека.
Друг Флоренского, Сергий Булгаков (есть замечательная картина Нестерова в Третьяковской галерее - «Два философа»: Флоренский и Булгаков вместе) - марксист, семинарист, который, как многие семинаристы, отпал. Бывший семинарист, как Сталин, как Чернышевский. Поехал в Германию, учился у Каутского, привез сюда свой марксизм. Потом начинает отдаляться. Это - работа мысли, постоянная работа мысли, постоянное преодоление самого себя: от марксизма к идеализму, от идеализма к христианству, от христианства к православию. Человек, который постоянно ищет, не удовлетворяясь ничем. Человек, который действительно никогда не останавливался ни перед какой трудностью, человек, которого никогда не убеждало чужое слово. Он должен был заново все открыть. И он до конца жизни - такой. Когда он начал поднимать богословие, он говорил: «Опять мы утыкаемся в эту аристотелевскую причинно-следственную связь». Так вот, мы не живем в мире Аристотеля, в причинно-следственности, когда говорим о Троице. И здесь - остановка, здесь святые отцы «проворачиваются», потому что здесь нет персонализма, нет, так сказать, личностности, потому что эта неоплатоническая триада относится к вещам. Никакой разницы между компьютером, или коляской с кучером, или Троицей неоплатоническая триада не может определить. Эту триаду снова возрождает Соловьев и через век после него - Карл Раннер. И опять там эта безличность, имперсонализм, который не дает вернуть Троицу снова в понимание человека.
Современный кризис христианства - кризис троичного сознания. Христиане не верят в Троицу: католики не верят в Троицу, англикане не верят в Троицу, протестанты не верят в Троицу, кроме фундаменталистов, которые вообще ни во что не верят (они принимают все как есть, без понимания). Кризис тринитарного сознания! А если кризис тринитарного сознания, если ты не понимаешь, что такое Троица, если нет Логоса, то что значит, что «никто не восходил на небо, кроме Сына Человеческого, сшедшего с небес», то кто такой Иисус? Учитель праведности, пророк. Начинается вся эта бесконечная болтовня об «историческом Иисусе».
Это - кризис, фундаментальный кризис современного христианства. Надо возвращаться к пониманию того, что есть Троица, т.к. Троица - это основа Церкви. Если мы перестанем верить в Троицу, то давайте разбежимся кто куда - в иудаизм и мусульманство, в две прекрасно организованные общины, одна с мощными мускулами, другая с мощными финансовыми мускулами. Что, собственно говоря, и происходит, когда православные люди оказываются в свободном мире - они очень быстро разбегаются по разным местам.
Надо сохранить веру. Русская религиозная философия это и делает. Богословие о. Сергия Булгакова - «Свет Невечерний», главы о троичности, Большая трилогия - указывают традицию православной церкви, которую нужно понять. Это традиция, которую мы повторяем, мы ее служим, мы ее поем, но мы ее не понимаем. Ее надо освоить.
Ее надо освоить, прежде всего, как литургическую традицию. Это христоцентрическое богословие, христоцентрическая христология, из которой вытекает христоцентрическая экклезиология. Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же, и мы держимся за Него, и Церковь держится за Него, и в Него как бы уходит, и из Него исходит. Отсюда необходимость постоянной евхаристии. «Я есть истинная лоза, а вы ветви». Кто не пребывает во Мне, тот выброшен вон. Пребывание во Христе - это евхаристический образ. Вообще не понятно, что значит во Христе, со Христом? Все протестантские попытки не могут охватить тайны слов «во Христе». Это евхаристический опыт.
Слова Иисуса, как они приведены в шестой главе Евангелия от Иоанна: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» - это невозможно для иудеев, невозможно для многих Его учеников. После того, как они это услышали, многие сказали: «Кто может слушать эти ужасные слова?», т.е. если не можете есть тело своего учителя, то не можете быть учениками. Кто это может слышать!? Христос спрашивает апостолов: «Не хотите ли и вы уйти?» Ему аккуратно отвечает Петр. Мол, Господи мы понимаем, что Ты имеешь в виду, конечно, мы Тебя слушаем. Он не говорит, что я Тебя понимаю. Здесь звучит: «Что бы Ты ни делал, мы идем за Тобой, если мы даже не понимаем».
Далее церковь. Церковь должна понимать. О. Сергий Булгаков пишет статью «Евхаристический догмат». Это постоянное развитие и понимание того, что есть православное предание. Он открывает его заново с несказанной простотой и убедительностью. Поражает прозрачная ясность его мысли. Конечно, он самая крупная фигура в богословии XX века, поэтому я говорю в основном о нем.
Кифа: Существует мнение, что русская религиозная философия и тесно связанное с ней творчество русских богословов были лишь перенесением на русскую почву идей немецкой классической философии и связанного с ней так или иначе протестантского богословия. Такой вот протест на засилье католической по своему происхождению схоластики. Насколько справедливо это утверждение?
О. Михаил: Для ответа на этот вопрос мне хотелось бы вернуться к началу века, к тому времени, которым о. Георгий Флоровский закончил свои «Пути русского богословия». Это время, когда богословие выходило из схоластических пелен, оно рождалось в серебряном веке, оно рождалось в языке символистов, что очень существенно, потому что этот контекст надо понимать. Я написал на эту тему статью «О критике неокантианства». Нужно понять философский контекст этого времени: гносеологические проверки всего и вся - то, что внесло неокантианство и чем заполнило все кафедры философии и богословия.
Не случайно русским религиозным философам надо было создавать свое собственное издательство. Зачем они создавали это издательство? Печататься было негде, никто не печатал. Не печатали ни Булгакова, ни Трубецкого, ни Флоренского. Сидели везде неокантианцы, позитивисты - Милюков, кадеты со своей программой позитивизма, или марксисты, или народовольцы, что то же самое, - на всех кафедрах и во всех издательствах Вот они и нашли вдову Морозова, которая открыла религиозно-философское издательство «Путь». Так возникло это движение.
Итак, необходимо было преодолеть эту неокантианскую зависимость. Что сделал Кант? Что такое новая философия? С чего начинается новая философия? С коперниковской революции.
Огромная вселенная, о которой мы узнаем все больше и больше. Мой друг астрофизик говорит, что сейчас открыто около двухсот миллионов галактик. Но даже если бы их было двести, а не двести миллионов, это все равно устрашает. Человек раздавлен, если он немножко подумает о крошечности своей и своей Земли, которая находится вообще где-то на окраине нашей собственной галактики. Если человек соотнесет это с множеством галактик во вселенной, то становится понятно, что ничего не понятно. Т.е. становится совершенно непонятно, откуда человек произошел и зачем он вообще здесь нужен.
Так вот, я хочу сказать, что этот водораздел был внесен Кантом. Раньше мир был теоцентричным, и богословие соотносило мысль человеческую с Богом. Кант сказал, что ум человеческий не может делать такие вещи, потому что Бог, как и душа человеческая, есть вещь в себе. Никаких суждений на основании своего собственного разума мы сделать не можем. А с точки зрения практического разума нам это и не нужно. Практический разум, с точки зрения Канта, это разум нравственный. А нравственные чувства у нас внутри. И в этой жизни нам не важно: один Бог или два, и что мы знаем о Боге. С этого началось его богословие. С этого началась его философия.
Гегель пытался как-то преодолеть это, и по-своему он преодолевает наследие Канта. Потом из Гегеля выпадают левогегельянцы: вырастает атеизм, марксизм и т.д. И тогда возникают неокантианцы, целое движение за философскую строгость, за возвращение к Канту. Их лозунг: «Мы проверяем все (как мы понимаем, что это - чашка, как мы понимаем, что это - ложка?) с точки зрения гносеологической, эпистемологической».
Неокантианство продолжается философским языком Витгенштейна, той же самой линией. Начинается логический неопозитивизм. Начинается постмодернизм. «Что значат слова? Да ничего. А что значит слово «Бог»? Да ничего не значит», - скажет постмодернист. «Вопрос даже не в том, есть Он или нет. Для меня это только слово, которое ничего не значит». Все шатко, уже шатка не только вера, уже основа наших сентенций превращается в воду. Ни о каких аристотелевских субстанциях вообще речи быть не может.
Это как материя. Самая мистическая наука - это физика. Я вижу перед собой твердый стол, а мне говорят: «Да нет там ничего, там вообще решетка какая-то кристаллическая, атомы. А когда ты смотришь на атом, там и решетки нет никакой». В конце концов, ты доходишь до того, что маленькая частица вообще в волну переходит, и все. Материя - видимость. Нет никакой твердой материи. Это совершенно другой мир. И в этом мире аристотелевская философия рассыпается, как карточный домик. Но с карточным домиком падает все схоластическое богословие, которое на нем стоит, от Питера Ломбарда до Фомы Аквината. И то самое, которое мы приноровили для своих школьных систем. Его можно выучить, сдать зачет. Но когда ты выступаешь перед публикой, и мало-мальски интеллигентный человек тебе задает вопрос, что ты ему ответишь? С точки зрения этого богословия?
Поэтому возникает попытка заново строить богословие. Она связано и с культурой - с поэзией, языком. Она выходит из серебряного века, потому что рождается новая культура. Культура идет в сторону создания огромного светского идеологического универсума. Поиск альтернативы происходит в религиозной философии. Как символист Вяч. Иванов, например, смотрит и туда и сюда. Флоренский, когда он пишет свою книгу «Столп и утверждение истины», пишет: «Сейчас я работаю над опытом символической гносеологии». Так он называет свою задачу включить Бога и человека в единый универсум, чтобы мы снова могли говорить о Боге, чтобы мы снова могли вернуть Его в наш дискурс - и Бога, и православное предание, и Троицу - все. И эта философская работа - это очищение. Она уникальна именно для русской мысли. Потому что на Западе она приняла совершенно другие формы. Она приняла формы Хайдеггера. Об этом говорит открытым текстом его ученик, Гадамер: «Почему Хайдеггеру понадобился онтологизм? Потому что ему надо было преодолеть неокантианство». Оно держало всех в неких абсолютно жестких философских оковах. Читайте. Это Коген, Наторп, Кассирер. Это все огромные фигуры. Риккерт, Винделбанд. Это все могучие машино-умы. Против них в начале XX века в Америке слегка выступил Вильям Джеймс со своим прагматизмом. Но потом они заполонили всю сцену. Когда эти немцы приехали в Америку в 20-30-е годы прошлого века, а в Америке своей философии не было, они заняли соответствующие кафедры. Отсюда вышел неопозитивизм. Ну, американская философия - это особая статья, там нет особой философии. Но даже европейская философия. Постмодернизм весь отсюда, распадение марксизма. Но это большой философский разговор. Я не философ, я в этом смысле самоучка. Я философ в той степени, в которой мне это нужно для богословия.
 Выпад Хайдеггера - это попытка стороной обойти своей «феней» древнюю онтологию. Он возвращается, между прочим, к древней онтологии, к античности. Учит греческий язык, чтобы снова вернуться к бытию, к источнику, преодолевая границу, которую ставит человеческий разум по Канту (что мы не можем ни о чем судить). Русская философия это все преодолела. Она возвращается через гносеологию к онтологии, показывая, что гносеология - это часть онтологии, что внутри онтологии она может быть понята и обоснована. Это темы Трубецкого, это темы периода издания «Пути». Потом члены этого круга создают уже свою философию - создают, вернувшись в Церковь. Поэтому в Париже, в Сергиевском институте строится православное богословие с учетом всего этого. Эти вещи уже освоены. Они уже философски освещены всей когортой философов - Франком по-своему, Николаем Лосским через свою философию интуитивизма, о. Сергием Булгаковым, Бердяевым, который продолжает идти своим путем. А далее начинается развитие богословского сознания.
Выпад Хайдеггера - это попытка стороной обойти своей «феней» древнюю онтологию. Он возвращается, между прочим, к древней онтологии, к античности. Учит греческий язык, чтобы снова вернуться к бытию, к источнику, преодолевая границу, которую ставит человеческий разум по Канту (что мы не можем ни о чем судить). Русская философия это все преодолела. Она возвращается через гносеологию к онтологии, показывая, что гносеология - это часть онтологии, что внутри онтологии она может быть понята и обоснована. Это темы Трубецкого, это темы периода издания «Пути». Потом члены этого круга создают уже свою философию - создают, вернувшись в Церковь. Поэтому в Париже, в Сергиевском институте строится православное богословие с учетом всего этого. Эти вещи уже освоены. Они уже философски освещены всей когортой философов - Франком по-своему, Николаем Лосским через свою философию интуитивизма, о. Сергием Булгаковым, Бердяевым, который продолжает идти своим путем. А далее начинается развитие богословского сознания.
Да, сейчас они немного устарели, потому что неокантианства нет. Сейчас другие «чудовища» на сцене. Но эти «чудовища» не на пустом месте, они оттуда же возникли. А у нас, на мой взгляд, нет никакой другой традиции. Наша философская и богословская традиция - только эта.
Санкт-Петербург, 28 июля 2006 г.
Беседовал Александр БУРОВ
Окончание беседы в Кифе №12(70) сентябрь 2007 >>
---------------------
Протоиерей Михаил Меерсон-Аксенов родился в 1944 г. в России. Был крещен в возрасте 7 лет. Правозащитник. Эмигрировал в декабре 1972 г. в Австрию. Учился в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Переехал в США. Окончил Свято-Владимирскую православную семинарию. Рукоположен в священники в 1978 г. во время учебы в Свято-Владимирской духовной семинарии. Настоятель храма Христа Спасителя в Нью-Йорке.
КИФА №10(68) август 2007 года